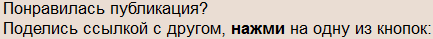Все они вышли из «Бригантины»
 Власть нуждается в поэтах. Поэты нуждаются в самовыражении. Власть может либо предоставить поэту такую возможность, сделав из него союзника, либо не предоставлять, превращая его в диссидента.
Власть нуждается в поэтах. Поэты нуждаются в самовыражении. Власть может либо предоставить поэту такую возможность, сделав из него союзника, либо не предоставлять, превращая его в диссидента.В 20-е годы в стране, где веками распевались песни о «народных заступниках» и часто ставился знак равенства между романтиком как чаятелем народным и «романтиком» с кистенем, песенный фольклор оказался самым влиятельным и популярным жанром.
Нужно было сразу привести в надлежащий порядок разгуливавшее по стране нэповское «творчество», все эти «рублички-бублички» или «кичманы-урканы», вечную и бессмертную «Мурку», и противопоставить ему песенное искусство, которое власть считала истинным. То самое, которое потом ляжет в основу легенд и мифов.
В общем, власть, среди которой немало было таких вот «романтиков», быстро смекнула, о чем и как нужно писать «былинникам речистым». Никаких шалостей и экспериментов. Хотите быть свободны – пишите только так и только об этом. Сильные мира сего не потерпят появления пасквиля и клеветы.
Молодых «беззаветных бойцов» тоже нужно понять. Каково им будет узнать, что в «справедливых боях» их просто использовали… Нехорошо это будет и неправильно. Да и грядущим поколениям надо же во что-то верить, мечтать и «плакать по ночам»…
Вопрос поиска авторов почти не стоял в стране, где мало энштейнов, но все – поэты и романтики.
Одним из первых таких мифотворцев стал Михаил Светлов. Во время публичных выступлений он невыразительным голосом, без аффектации, с прорехами в дикции рассказывал о Гренаде и земле, которую нужно отдать крестьянам, о Каховке и наших мирных людях и планах. Личность и манеры Светлова были настолько обаятельны, что зрители долго требовали исполнения «на бис». В дружеском кругу он иногда брал в руки гитару. И слушателям становилось понятно: вот оно, вот как нужно исполнять и интонировать собственные сочинения, чтоб их слушали затаив дыхание.
Больной хроническим бронхитом Павел Коган пел редко, но ритмика его поэзии сама просилась на музыку.
Настораживали только неожиданные когановские образные средства: «не очень умные» герои революции сложили «плохие песни» о том, что «рутина», случалось, повелевала их судьбами. Кто позволил так писать о «пламенных революционерах»? Где романтика побед и свершений? Алиби для автора стали его строки о Родине, о ее сиянии от Англии до Японии. Они вполне соответствовали тогдашнему актуальному лозунгу о мировой революции.
Его стихи жили как полузапретный песенный фольклор, особенно «Бригантина».
Коган опередил свое время: романтика и приподнятое настроение пришлись как нельзя более кстати позже, в пятидесятые годы.
С уверенностью можно утверждать, что именно они, романтики и предтечи, закладывали фундамент тому задушевно-доверительному жанру авторской песни, который, в отличие от официального торжественно-парадного, станет многие десятилетия волновать слушателя и восприниматься ими как настоящая правда жизни.
Как жанр авторская песня тех лет имела только один недостаток: авторы были хоть и душевны, но безголосы.
В 50-е ситуация повторится: «другие мальчики споют другие песни» о том же: романтика, революция, герои, для которых жизнь – сплошная борьба. И станут эти безголосые «мальчики» на самое короткое время преемниками и правонаследниками, продолжателями мифтворцев.
Понимали ли они, что все это – не что иное, как попытка второй раз войти в ту же воду? Скорее всего, да. Иначе как объяснить то, что еще до появления диссидентов в чистом, так сказать, виде, они сами стали диссидентами: медленно и не сразу Окуджава, быстрее Ким, почти сразу же Галич.