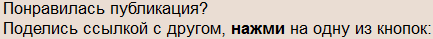А. Н. Вертинский: Всемирная слава и всенародная любовь
 Никогда до этого никто не говорил со зрителями так, как делал это Александр Николаевич Вертинский. Он выходил на сцену в черно-белых одеждах и маске, худой и стройный. Выпрямившись, склонив голову, сплетя длинные пальцы опущенных рук, он не ждал наступления тишины в зале. Когда на сцене загорался неверный свет и публика видела, кто перед ней стоит, повисала такая восторженная тишина, что, кажется, слышен был приглушенный вздох в последнем ряду.
Никогда до этого никто не говорил со зрителями так, как делал это Александр Николаевич Вертинский. Он выходил на сцену в черно-белых одеждах и маске, худой и стройный. Выпрямившись, склонив голову, сплетя длинные пальцы опущенных рук, он не ждал наступления тишины в зале. Когда на сцене загорался неверный свет и публика видела, кто перед ней стоит, повисала такая восторженная тишина, что, кажется, слышен был приглушенный вздох в последнем ряду. Он пел высоким голосом, отчетливо грассируя, иногда переходя на речитатив, о лиловом негре, о зàмках, о любви королевы и пажа, о каком-то зазеркалье Сингапура…
Публика не знала, как себя вести. Артист, казалось, даже не смотрел в зал. Он работал. Не отбывал номер, не заполнял паузы разговорами о том или о сем.
Но очень быстро начиналось то, что бывало на его концертах всегда: женщины рыдали, мужчины начинали чувствовать себя сильными и благородными рыцарями, понимающими, что такое честь и умеющими сопереживать и сочувствовать. Может быть, они даже начинали понимать, что не нужно пинать упавшего. Он заставлял слушателей чувствовать то же, что чувствовал сам и переживать так же, как переживал сам. В каждый концерт он вкладывал душу. Он не играл роль – он жил на сцене.
Он был больше, чем поэт, он был больше, чем исполнитель – он был апостол, властитель дум и настроений.
А после концерта, после неисчислимого количества выходов «на бис», после криков «браво», от которых сотрясались стены, смыв грим и продолжая вытирать обильный пот, он расписывался в бухгалтерской ведомости и клал деньги в карман порядком поношенного пиджака. Их было так мало, что можно было не пересчитывать.
 Отношения артиста с властями складывались не в пример сложнее, чем с благодарной публикой.
Отношения артиста с властями складывались не в пример сложнее, чем с благодарной публикой. Властям всемерно необходима была демонстрация того, что русская интеллигенция выбирает Родину и возвращается на Родину. Много сил было приложено, чтобы вернуть Горького, Бунина, А.Н. Толстого, но не все и не всегда получалось. Вертинский был из тех, кто сам хотел вернуться. Он сделал свой выбор, и с ним не нужно было разводить церемоний. В Москве и Питере гастролировать разрешено не было. Если Белоруссия, то не Минск, а Могилевская область, если Узбекистан, то совхоз «Политотдел», Если Сахалин, то рыбацкие хозяйства. В Салехард или Каменск-Уральский - зимой, в Ферганскую долину – летом. В домà культуры Воронежской области – осенью, по грязной каше бездорожья.
Вертинский понимал меру своей ответственности, и работал не за страх, а на совесть. Число его концертов за пятнадцать лет без нескольких месяцев гастрольных поездок перевалило за три тысячи. И так до смерти в шестидесятивосьмилетнем возрасте с диагнозом: «Острая сердечная недостаточность». Символично это или нет, но смерть пришла к нему там же, где она пришла к Есенину: в «Англетере».
Сейчас уже сложно во всей полноте восстановить взаимоотношения артиста с тем Одним, кто всем правил и все решал. Но ничего нельзя сделать с фактом иезуитской резолюции на списках к репрессиям, сделанной всевластной рукой и обязывающей исполнителей предоставить возможность артисту на Родине и на свободе закончить свои дни.
Сам маэстро хорошо сознавал свою роль и значение. На вопрос о званиях и наградах он однажды ответил: «Кроме мировой славы и всенародной любви, никаких других званий у меня нет».
Пластинки его к выпуску были запрещены. Властям несказанно повезло, что не было в те времена бытовых магнитофонов. Это, впрочем, не помешало его имени стать легендой. Вертинский – это Вертинский. Единственный. Неповторимый.